Нить ожерелья: для чего нам внутренний голос
Как формируются мысленные монологи и диалоги? Могли бы мы обходиться без них? Есть люди, которые проверили это на личном опыте
Образ жизни Саморазвитие
В фильме 2002 года «Адаптация» есть сцена, где писатель Чарли Кауфман, которого сыграл Николас Кейдж, сидит перед печатной машинкой, парализованный творческим кризисом. Его губы неподвижны, однако зритель слышит внутренний голос: «Начать. Надо начать. Как же начат? Я голоден, надо выпить кофе. Кофе помогает думать, но сначала я должен написать что-нибудь, а потом наградить себя кофе. Кофе и кексом. Итак, мне нужно определить тематику. Может быть, бананово-ореховый кекс, это вкусно».
Мы слышим внутренний голос Чарли, диалог в его голове. Во многих фильмах есть такой закадровый голос, это окно в сознание персонажа. Большинство из нас легко узнают природу этих бесплотных голосов. Они похожи на то, что происходит в нашем сознании каждый день. Американский социолог Норберт Уайли заметил эти параллели. В книге 2016 года «Внутренняя речь и диалогическое Я» он пишет: «Жизнь — это что-то вроде немого кино, и внутренний голос придает ей целостность».
Для психологов внутренняя речь — загадка: она является огромной частью нашей жизни, но при этом так трудно поддается изучению. Ведь в реальности мы не можем получить аудиозапись внутреннего голоса других людей.
Впрочем, попытки превратить внутреннее во внешнее уже предпринимались. В 2016 году антрополог Эндрю Ирвинг подходил к людям на улицах Нью-Йорка и просил их произнести вслух то, что они говорят себе мысленно. «Кто-то обсуждает сам с собою, что съесть на обед, или тихо напевает слова популярной песни, а другие вспоминают детство, беспокоятся о деньгах или фантазируют о коллеге по работе», — поделился он.
Ирвинг признавал, что существует разница в том, что он мог записать в естественных условиях, и тем, что происходило в чьем-то сознании. «Мы, очевидно, слышим не сами по себе мысли людей, а их вербальное выражение в публичном контексте», — писал он.
Вот почему некоторые эксперты обращаются к тому, как внутренняя речь изображается в фильмах и литературе. Так они надеются раскрыть тайну, почему мы ведем мысленные диалоги с самими собой и для чего нужны эти беседы.
В кино внутренняя речь дает зрителю возможность заглянуть в сознание персонажа. В фильме Терренса Малика «Пустоши» (1973) мы слышим, о чем думает героиня Сисси Спейсек, когда ее любовник убивает другого мужчину. В телесериале «Частный детектив Магнум» (1980-88) мы часто слышим, о чем думает герой Тома Селлека, например, дает себе указания или мотивирует себя. «Таксист» (1976), «Заводной апельсин» (1971), «Помни» (2000), «Бойцовский клуб» (1999) — все эти фильмы превращают внутреннюю речь во внешнюю ради зрителя.
Когда закадровый голос сообщает что-то зрителю таким образом, он имитирует разговорную речь, как будто создатели фильма беседуют с нами. Это согласуется с ведущей теорией о том, откуда берется наша внутренняя речь.
В 1930-х годах российский психолог Лев Выготский предположил, что внутренняя речь — это усвоенная версия того, как дети слышали речь родителей. По мнению Выготского, даже если внутренняя речь происходит в вашей голове, она остается социальной, потому что копирует разговоры, услышанные в раннем возрасте. Когда дети слышат, как их родители разговаривают с ними и друг с другом, эти разговоры со временем интериоризируются, превращаясь сначала в личную речь, когда дети говорят вслух сами с собой, а затем во внутреннюю речь.
Теория Выготского подтверждается современными исследованиями. Например, Элейн Риз из Университета Отаго в Новой Зеландии доказала: то, как дети говорят о прошлом и будущем с родителями, влияет на то, насколько последовательны или прочны их внутренние представления о себе. Еще одно исследование, проведенное в 2020 году, показало, что, когда людей растят родители, которые расходятся во мнениях о методах воспитании, во взрослой жизни их внутренний диалог звучит конфликтно и противоречиво.
То, как внутренняя речь имитирует социальную, помогает объяснить, почему она «служит» не одной, а множеству целей, точно так же, как и внешняя речь. Чтобы отразить эти различные функции, в 2018 году Чарльз Фернихоу, психолог из Даремского университета в Великобритании и автор книги «Голоса внутри» (2016), помог разработать опросник «Разновидности внутренней речи». Примеры пунктов включают: «Я слышу голоса других людей, которые раздражают меня в моей голове»; «Я тихо говорю с самим собой, приказывая себе что-то сделать»; «Когда я злюсь, мой внутренний голос может помочь мне успокоиться».
Иногда мы мысленно разговариваем с другими людьми или сами с собой. Мы можем мотивировать или критиковать, успокаивать себя или раздражаться еще больше. Как и голос за кадром в кино, внутренний голос может рассказать вам историю о себе, напомнить о чем-то, мотивировать или критиковать.
А как насчет формы и структуры внутренней речи? В фильмах мысли персонажей предназначены для зрителя и направлены на изложение, поэтому они часто представлены в виде законченных предложений. Внутренняя речь в реальной жизни может быть такой же, но часто это не так. «Многие люди говорят, что внутренняя речь гораздо более фрагментарна, более разрозненна, чем отшлифованные монологи, которые вы обычно слышите по телевизору», — говорит Матисс Гёртс, философ из Зальцбургского университета в Австрии, который изучает внутреннюю речь.
Фернихоу считает, что особенность внутренних монологов в реальной жизни в том, что их можно сокращать или расширять до разных уровней абстракции. В 2004 году он развил теорию Выготского, предложив четыре уровня, которые проходит речь на пути к полной интернализации: внешний диалог (например, разговоры детей с родителями); личная речь (когда дети разговаривают вслух сами с собой); расширенная внутренняя речь (мысленный монолог, который в точности повторяет внешний); и, наконец, сжатая внутренняя речь, разрозненная, представляющая смесь слов и идей, которую Выготский назвал «мышлением чистыми значениями».
Чаще всего внутренняя речь имеет сжатый характер, что не слишком подходит для кинематографа. Хотя исследователь внутренней речи Рассел Херлбурт обнаружил, что люди часто говорят сами с собой полными предложениями, Фернихоу отмечает: «Если бы вы могли услышать мою внутреннюю речь, то не поняли бы ее смысла».
Обрывочность внутренней речи запечатлена в рассказах «История Нью-Йорка» Ирвинга. В одном из них мужчина вздыхает и произносит ряд бессвязных фраз: «Я уверен, что это выход. Пауза. Я могу учиться. Пауза. И все же. Пауза. Сейчас я смотрю на это позитивно, раньше я был зол, а теперь чувствую, что вы двое — семья».
В работе, опубликованной в 2022 году, Фернихоу и его коллега из Дарема, Марко Бернини утверждают, что обращение к литературе может помочь в научном изучении фрагментарности внутренней речи. В отличие от кино-изображений внутренней речи, романисты иногда передают внутренние монологи персонажей в форме близкой к тому, как мы часто переживаем это в голове.
Бернини и Фернихоу обратились к модернистской литературе, например, к «Улиссу» Джеймса Джойса, книге, написанной в 1920. Возьмем этот отрывок из романа, где Бернини и Фернихоу выделили те части, которые они считали внутренней речью: там, где рассказчик мысленно разговаривает сам с собой:
Его правая рука вновь прошлась по лбу и волосам. Затем он надел шляпу, с облегчением вздохнул и вновь прочел: отборная смесь, изготовлено из лучших цейлонских сортов. Восток. Чудесное местечко, наверное: сад мира, огромные ленивые листья, хоть плавай на них, кактусы, цветочные луга, ползучие лианы, как там их называют.
Джойс показал, что трудно изучить внутреннюю речь реальных людей и уловить, каково это — думать полными и неполными предложениями, расширяя и сжимая их в своем сознании, словно аккордеон. Бернини и Фернихоу утверждают, что с помощью художественной литературы можно получить сведения о внутренней речи, близкие к жизненному опыту, а в некоторых случаях и более близкие, поскольку писатели — эксперты по самоанализу и отражению внутренней жизни.
Сравнивая различные подходы романистов к передаче внутренней речи, мы можем получить дополнительные сведения. В частности, как они представляют внутренние монологи на разных уровнях расширения или сужения. Бернини и Фернихоу также упоминают Вирджинию Вульф, которая попыталась сымитировать внутреннюю речь и блуждание ума в романе 1925 года «Миссис Дэллоуэй». Она писала в дневнике, что Джойс зашел слишком далеко в сжатии внутренней речи: «Книга расплывается. Она бессодержательна. Она претенциозна». Вульф предпочитала демонстрировать внутреннюю речь по-другому:
… а она стояла и смотрела, пока Питер Уолш не сказал: «Замечтались среди овощей?» Кажется, так? «Мне люди нравятся больше капусты». Так, кажется? Он сказал это, наверное, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. Он должен был вернуться из Индии в один из этих дней, в июне или июле, она забыла, в какой именно, потому что его письма были ужасно скучными; только разговоры его запоминаются, да глаза, а еще перочинный ножик, улыбка, брюзжанье и кое-какие фразы, вроде этой, про капусту.
Когда речь идет об изображении разума и его внутренних монологов, Вульф считала, что то, что подает Джойс, слишком близко к сырой форме мыслей. «Когда есть приготовленное мясо, — пишет она, — зачем же есть сырое?»
Бернини и Фернихоу утверждают, что такие авторы, как Джойс и Вульф, хотя и отличаются по стилю, являются экспертами в передаче феноменологии внутренней речи во всей ее разобщенности, но при этом достаточно расширяют ее, чтобы мы могли понять историю. По их мнению, опыт чтения произведений Джойса схож с нашим собственным ощущением внутренней речи и может привести к «более тонкой и феноменологически точной концептуализации тайны сознания».
В книге «В театре сознания» 1997 года нейробиолог Бернард Баарс пишет: «Люди — болтливый вид. Стремление разговаривать с самим собой поразительно сильно, в чем мы можем легко убедиться, попытавшись как можно дольше заглушить внутренний голос». Но насколько необходима эта внутренняя болтовня, до сих пор остается предметом споров.
Есть небольшое число людей, которые утверждают, что у них нет внутреннего монолога. Есть те, кто лишился его в результате травмы мозга. Питер Лэнгланд-Хассан, философ из Университета Цинциннати (США), убежден, что для того, чтобы внутренняя речь считалась необходимой или критически важной для таких когнитивных процессов, как память, регулирование эмоций или самоощущение, необходимо, чтобы исследования показали, что люди, лишенные внутренней речи, страдают от глубоких нарушений.
Люди с афазией (трудность понимания или воспроизведения языка вследствие травмы или заболевания головного мозга) часто испытывают сложности с заданием на молчаливую рифмовку, в котором нужно решить, рифмуются два слова или нет, просто мысленно произнеся их. Некоторые исследователи считают, что это свидетельствует о нарушении внутренней речи и показывает ее влияние на умственную деятельность. Однако полученные результаты не говорят о том, что внутренняя речь жизненно необходима для выполнения подобных умственных задач. Люди с афазией способны решить задачу на рифмовку, проговаривая слова вслух. Другие исследования показали, что люди с анендофазией, у которых отсутствует внутренний монолог, не справляются с тестами на рифмы про себя, так же хорошо, как обычные люди, но они могут использовать для этой задачи устную речь. Это вновь поднимает вопрос о том, насколько важна внутренняя речь для познания.
Однако есть неофициальные данные, что потеря внутренней речи может иметь глубокие последствия. Например, в книге 2006 года «Мой инсульт был мне наукой» нейробиолог Джилл Болте Тейлор написала о том, как потеряла внутреннюю речь после инсульта, и как это привело к проблемам с пониманием того, где находится ее тело в пространстве, а также к проблемам с памятью и распознаванием эмоций. Изменилось даже осознание личности.
Во многих фильмах нет закадрового голоса или повествования. В одних романах мы можем проникнуть в сознание человека, а в других — нет. Но все они, тем не менее, могут рассказать историю, сложную и психологически насыщенную. Возможно, с внутренней речью в реальной жизни дело обстоит так же. Она не обязательно нужна нам, чтобы думать. Но если внутренняя речь — это инструмент языка, который мы используем в общении с другими людьми, то это может быть просто очень эффективным способом описать разум самому себе.
«Без этого… не то чтобы вы не могли обладать сложными рассуждениями, — считает Лэнгленд-Хассан. — Но когда приходит время обдумать свои мысли, это действительно полезный способ их описать».
Закадровый голос в кино или в книге служит для того, чтобы придать смысл событиям и поддержать сюжет. Он может расширяться или сужаться, подобно тому, как ведет себя социальная речь. Фернихоу считает, что внутренняя речь может выполнять ту же функцию. Он использует аналогию с ожерельем. «Сознание полно воспоминаний, образов, чувств, — говорит он. — Возможно, внутренняя речь — это своего рода нить ожерелья, которая удерживает все вместе».

 Better Humans
Better Humans Альпина Паблишер
Альпина Паблишер Vox
Vox The Guardian
The Guardian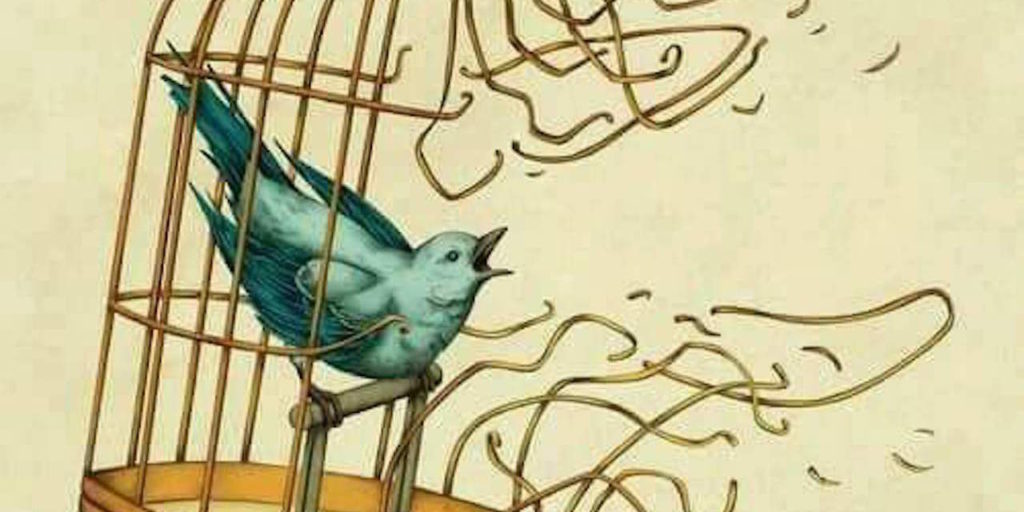

 The Conversation
The Conversation
 The Atlantic
The Atlantic