Право на слово: как сказки учили знать свое место
Ответственность за истории, которые мы рассказываем, отразилась в фольклоре
История Саморазвитие
Сказки передавали от поколения к поколению не только народную мудрость, но и тонкости отношений между людьми, и правила поведения, нужные для выживания в обществе. Гарвардский профессор, культуролог и литературовед Мария Татар в книге «Тысячеликая героиня» рассказывает о том, чем поплатились сказки за свое умение говорить правду.
Собственная история: говорящие черепа и царевна в одеянии из кожи
Фольклор со всей заключенной в нем силой воображения — это как слетевшая с катушек машина для сочинения историй, и неудивительно, что в нем полно скрытой саморекламы: иначе говоря, историй о силе историй. Вопреки заявлению Уистена Одена, поэзия изменяет мир, и символические истории несут в себе высоковольтный заряд силы. Многие сказки из устной традиции раскрывают положительные аспекты нарратива, хотя и честно разоблачают негативные аспекты пустой болтовни и сплетен. Эти выдуманные истории, быть может, и не передают фактические события, зато отражают отшлифованные веками истины, мудрость многих поколений. Они самореферентны, причем дважды, поскольку показывают, что может случиться, когда рассказываешь историю, — хотя при этом сами представляют собой рассказываемые истории. Одна из таких сказок, по наблюдениям
фольклористов, имеет особенно широкую распространенность: ее варианты существуют в Нигерии, Гане и Танзании, а также в США и Вест-Индии. Одну из ее версий записал в 1921 г. Лео Фробениус, немецкий этнограф, собиравший фольклор африканского континента. Рассказчик в этой сказке явно апеллирует к страху перед черепами, костями и смертью для того, чтобы добиться предельного драматического эффекта и напомнить слушателям, что хорошая история может быть вопросом жизни и смерти.
Зашел молодой охотник в кусты. Нашел он там человеческий череп. Охотник спросил его:
— Как ты здесь оказался?
И череп ответил:
— Много болтал.
Охотник побежал домой и разыскал царя. Он сказал царю:
— Я нашел в кустах человеческий череп.
И когда я заговорил с ним, он мне ответил.
Царь сказал:
— Ни разу с тех пор, как родила меня мать, не слыхал я, чтобы череп говорил.
Царь созвал старейшин родов Алкали, Саба и Деги и спросил их, слыхали ли они, чтобы череп говорил. Но никто из них о таком не слыхивал. Тогда они решили отправить с охотником стража, чтобы тот проверил, правду ли говорит охотник. Стражу было велено пойти с охотником туда, где лежит череп, и убить его на месте, если он соврал. Страж с охотником отыскали череп. Охотник сказал ему:
— Говори, череп.
Но череп не произнес ни слова.
Охотник спросил его так же, как в первый раз:
— Как ты здесь оказался?
Череп не произнес ни слова.
Весь день умолял охотник, чтобы череп сказал хоть что-то, но тот молчал. Под вечер страж сказал охотнику, что если ему не удастся заставить череп говорить, приказ царя будет выполнен. Череп все так же молчал, и стражу пришлось убить охотника. Когда страж ушел, череп разомкнул челюсти и спросил голову убитого охотника:
— Как ты здесь оказался?
Убитый охотник ответил:
— Много болтал.
Хотя «Говорящий череп» представляет собой скорее сказку-предостережение — как опасно может быть рассказывать обо всем, что ты видел и слышал, — нарратив, в который облекается это предостережение, противоречит своей же основной идее, подрывает ее. С одной стороны, мы узнаем о том, как рискованно сообщать другим о невиданных и невероятных вещах, с другой — вся сказка посвящена поразительному, захватывающему, пугающему событию. Рассказчики этой сказки прекрасно знали, как велика в человеке тяга сообщить, рассказать, признаться, поделиться да и просто поговорить. Но они также понимали — и понимали на очень глубоком уровне, — что соблазн рассказать всю правду может привести к самым дурным последствиям и даже смертному приговору.
[…]
Учитывая, как может быть опасно говорить правду облеченным властью, рассказчики историй всегда рискуют. Даже если вы сообщаете бесспорные факты, аудитория может отнестись к ним со скептицизмом или враждебностью, обвинить вас в лжесвидетельстве, обмане или преувеличении. Говорящий череп — это, конечно, чудо, воплощенный оксюморон, в который трудно поверить. История о его лукавстве бесконечно повторяется и преломляется в метафорическом зеркальном коридоре, передаваясь от одного поколения к другому в несколько измененных вариантах. Есть сказка «Череп, который отвечал», записанная Зорой Ниэл Хёрстон в 1930-х гг. на Глубоком Юге, есть ганская сказка «Охотник и черепаха», есть сказка о говорящей черепахе (Озарк, штат Арканзас). В версии, записанной Хёрстон, Старый череп говорит человеку по имени Задранный Нос: «Мой язык привел меня сюда, и, смею сказать, твой приведет тебя сюда же». Эта народная сказка велит слушателям держать рот на замке, хотя сам ее рассказчик делает обратное: так эта история о сказительстве превращается в аллегорию речи, звучащей наперекор всему.
О риске, с которым сопряжено публичное обвинение злодея, мы можем судить по тому, как часто девочки и женщины в фольклорных сюжетах прибегают к разнообразным хитростям, переодеванию и прочим уловкам, чтобы обезопасить себя, прежде чем рассказать свою историю. В сказках они только и делают, что скрывают свое истинное лицо: то надевают шкуру животного (как в «Ослиной шкуре», «Пестрой шкурке» или «Кошачьей шкурке»), то прячутся в ящиках, бочках и корзинах («Диковинная птица»), то обмазываются золой, смолой, мхом или покрывают себя перьями («Моховой покров»). Героини прибегают к мимикрии и маскараду, ведут загадочную игру в прятки, скрывая до поры до времени свою идентичность и раскрывая ее лишь в подходящий момент.
Героиня египетской сказки «Царевна в одеянии из кожи» Джулида (она-то и носит странную одежду из названия) убегает из дома, когда «морщинистая матрона» советует ее овдовевшему отцу жениться на собственной дочери. Она перебирается через дворцовую стену, заказывает дубильщику наряд из кожи, становится служанкой во дворце султана, завоевывает сердце государева сына и выходит за него замуж. Однажды к ней приходят посетители, среди которых оказываются ее отец и та самая матрона, советчица, выступавшая за кровосмесительный брак. Надев костюм и головной убор своего мужа, Джулида рассказывает истории, чтобы «развлечь» своих гостей. Матрона все время ее перебивает с досадой: «Не найдется ли у вас истории получше?» Тогда Джулида рассказывает историю «о собственных приключениях», а закончив, объявляет: «Я твоя дочь-царевна, на долю которой выпали все эти испытания по вине этой старой грешницы и дочери позора». Матрону сбрасывают с утеса, султан дарит Джулиде полцарства, и все оставшиеся живут «в довольстве и радости».
Многие так называемые бабкины сказки ближе к концу истории предоставляют читателю сокращенный пересказ предшествовавших событий, а само повествование зачастую выглядит
фрагментированным: рассказчица могла отвлекаться — например, на то, чтобы помешать суп или успокоить плачущего ребенка. Этот конгломерат мудрости старших поколений был своего рода страховкой от культурной амнезии: он гарантировал, что у историй, указывающих пути спасения (от неудачных помолвок, кошмарных обстоятельств и токсичных отношений), будут хорошие шансы сохраниться и распространиться. С одной стороны, сказки провозглашают важность раскрытия фактов здесь и сейчас («Говори! Рассказывай свою историю»). С другой стороны, они на собственном примере показывают, как важно закрепление рассказанных историй в памяти: их сохранение и распространение обеспечивается в форме не фактического документа, а художественного вымысла — своего рода мема, способного в хорошем смысле «завируситься».
Сказка «Царевна в одеянии из кожи» была издана в XX в. Но этот сюжет жил в устной традиции задолго до публикации — в виде волшебной сказки или одной из тех историй, которые мы знаем как «бабкины сказки». У этих сказок долгая и почтенная история: они были формой вечернего досуга, их рассказывали друг другу и младшим поколениям подружки, бабушки, няни и домашняя прислуга. Платон упоминает μῦθος γραός, «басни вроде тех, что плетут старухи», чтобы развлечь или приструнить детей […]. Встречается и выражение anilis fabula («басня старушечья») — их во II в. упоминает Апулей в «Золотом осле», в сцене сказительства, где «скрюченная под бременем лет старуха» пытается утешить жертву похищения сказкой под названием «Амур и Психея». Еще до расцвета книгопечатания и появления антологий волшебных сказок, предназначенных специально для детей, традиционные истории, рассказываемые пожилыми женщинами, были низведены до уровня детской забавы.
Такие сказки, как «Царевна в одеянии из кожи», могут заставить нас задуматься, действительно ли все женщины-рассказчицы были такими «старухами» — пожилыми женщинами, погрязшими в работе по дому, которым, как правило, и приписываются подобные «россказни». Веками собиратели фольклора описывали своих собеседниц как древних, непременно безобразных старушенций (именно так характеризует их неаполитанский писатель XVII в. Джамбаттиста Базиле), или как служанок (так обозначила их мадам де Севинье в XIX в.), или как бабушек и нянюшек (Шарль Перро указал их как источник французских сказок для своего сборника XVII в.). Тадео, учредитель собрания сказительниц в «Пентамероне», отбирает 10 женщин — «тех, что казались самыми опытными и речистыми». Вот список этих старух: «Цеца Хромая, Чекка Кривая, Менека Зобатая, Толла Носатая, Поппа-горбунья, Антонелла-ползунья, Чулла Толстогубая, Паола Косоглазая, Чометелла-паршивка и Якова-говнючка».
Фронтисписы к сборникам сказок изображают рассказчиц как сгорбленных, усохших от старости женщин, которые сидят, опираясь на палку, в окружении внучат. Приписывая авторство сказок старухам из трудового класса, собиратели, образованные мужчины из более высоких слоев общества, дистанцировались от этих женских голосов — и вместе с тем подчиняли их себе. Они лишали сказки авторитета, отрицая их культурную принадлежность, тогда как сказки предназначались для любых классов и социальных групп: молодых и старых, образованных и безграмотных, аристократов и простолюдинов.
Дискредитация сказочной мудрости
Бабкины сказки могут нести в себе полезное знание. Тот факт, что путем разговоров внутри женских домашних кругов и в ходе регулярных встреч наедине передавалась житейская мудрость, демонстрирует следующая сказка, записанная в 1931 г. британским колониальным администратором на территории современной Ганы. Сказка называется «Храни свои тайны». Как и сказка о говорящем черепе, она носит агрессивно-дидактический характер и призывает слушателей проявлять осторожность и благоразумие, предупреждая об опасности разглашения спасительных стратегий, которые женщины передают друг другу из поколения в поколение.
В сказке «Храни свои тайны» молодая женщина решает сама выбрать себе мужа и выходит за мужчину, который оказывается вовсе не человеком, а гиеной. Ночью муж спрашивает ее, что она станет делать, если они поссорятся, и она отвечает, что тогда превратится в дерево. «Я все равно тебя поймаю», — отвечает муж-гиена. Затем героиня выдает мужу и другие способы быстрого спасения от него, а ее мать, случайно услышавшая этот разговор, кричит из своей комнаты: «Молчи, дочь моя, должна ли женщина выдавать мужчине все свои тайны?» Под конец повествования героиня решает расстаться с мужем-гиеной и для успешного побега вынуждена прибегнуть ко всем имеющимся у нее спасительным стратегиям. Он раскусил все уловки, кроме последней: той единственной, о которой она ему не рассказала.
На следующее утро, когда еще только рассветало, муж велел жене подниматься с постели, потому что он собирался возвращаться домой. Он попросил ее пройти с ним небольшую часть пути и распрощаться за деревней. Жена согласилась, и как только деревня пропала из виду, муж превратился в гиену и попытался ее схватить. Она превратилась в дерево, но муж-гиена почти перегрыз его ствол. Она превратилась в озерцо, но муж-гиена выпил почти всю воду. Она превратилась в камень, но муж-гиена чуть его не проглотил. Тогда она приняла облик, который не успела ему раскрыть, когда мать накануне оборвала их разговор. Муж-гиена искал-искал, да так и не нашел, и, испугавшись, что деревенские заметят и убьют его, убежал восвояси. Тут жена приняла опять свой обычный облик и вернулась домой.
«Храни свои тайны» мудро и лукаво избегает раскрытия спасительного секрета, заставляя читателей гадать не только о том, что же было последней хитростью жены, но и о том, какие разговоры следовали за этой сказкой. Может, строились всевозможные догадки о том, какой же облик дочь-болтушка утаила от своего мужа по настоянию предусмотрительной матери? Или звучали предположения, как защититься от жестоких мужчин, включая членов семьи? Или же речь шла о звериной природе мужей? Загадка, которую сказка оставляет без ответа, безусловно, порождала много разных «почему» и «как», а также побуждала поразмышлять о способах уберечься от угроз семейной жизни.
Подобные разговоры между женщинами представлялись опасными, и потому сказки, способные их вызывать, активно дискредитировались. В 1786 г., незадолго до того, как братья Гримм начали публиковать свои сборники сказок, немецкий писатель Кристоф Мартин Виланд выразил протест против, как он сам это называл, снижения литературных стандартов: «Нет ничего плохого в том, что популярные в народе волшебные сказки передаются из уст в уста, но печатать их нельзя». […]
Сказки, распространенные в женском кругу, были еще сильнее обособлены и ограничены за счет переноса в рамки культуры детства. Эти истории передавались из поколения в поколение и могли использоваться (за исключением слишком смелых сюжетов, противоречащих традиционным убеждениям) для обучения ценностям, картине мира и моральным принципам. Они стали частью нефиксированной педагогической программы, которая до распространения грамотности служила для передачи в занимательной форме мудрости поколений. Французская писательница Мари-Жанна Леритье де Виллодон выступала в защиту ума и изобретательности нянек и гувернанток, указывая на «моральные качества» историй, которые они рассказывают. Однако, в отличие от своих современников-мужчин, она также понимала, что эти сказки могут с тем же успехом звучать в салонах, где собираются взрослые представители элит: услаждать слушателей аристократическим романтизмом, служить поводом для начала разговора и создавать платформы для социального взаимодействия, столь ценившегося в высоких кругах.
Но, как справедливо замечает британская писательница и историк Марина Уорнер в своей работе о культурной истории сказок, аргументы в пользу вывода сказок из сферы детской литературы и переориентации их на взрослую аудиторию, подобные тем, что приводила мадам де Виллодон, были обречены на провал, поскольку «бабкины сказки» повсеместно принижались и считались пошлостью, чепухой и пустой болтовней: «“Простые бабкины сказки”, наравне с прочими народными литературными поделками, несут на себе печать ошибки, ложного совета, невежества, предрассудка и фальшивой панацеи». По наблюдению другой британской писательницы, Анджелы Картер, если источником истории оказывается старая женщина, эту историю никто не воспринимает всерьез: «Бабкины сказки — это то же самое, что чепуха, неправда, сплетни, пустая болтовня; это насмешливое обозначение наделяет женщин правом на искусство сказительства — и тут же лишает их искусство всякой ценности».
Взглянув на фронтисписы к сборникам сказок, понимаешь, почему многие столь решительно выступали за то, чтобы исключить эти тексты из литературной культуры. Почти на всех
иллюстрациях изображены старые женщины в домашней обстановке (вновь вспоминаем строгих бабушек, сгорбленных нянюшек и служанок в заплатанных платьях), которые рассказывают истории мальчишкам и девчонкам. Сказки — удел либо очень старых, либо очень молодых, а тем, кто посередине, они ни к чему. Родители на этих фронтисписах отсутствуют, да и какой взрослый в здравом уме будет завороженно слушать подобную ерунду? И контроль над переходом текстов из устной традиции в письменную, и препоны на пути фольклора в печать в очередной раз доказывают: образованное общество всерьез намеревалось ограничить «бабкины сказки» пределами дома и добиться, чтобы книгопечатание, которое открыло бы им доступ в публичную сферу, про них забыло. Критики боялись, что эти устные рассказы, перестав быть принадлежностью только и исключительно местных народных культур, получат широкое распространение.
[…]
Как и стереотипные сварливые бабки — те самые склочные женщины, скандалистки и нарушительницы порядка, которые досаждают обществу своими негативными речами (жалобами, руганью и ссорами), — рассказчицы сказок могли порой говорить раздражающе и вызывающе, даже провоцировать гнев публики. Джамбаттиста Базиле запустил одну такую сквернословящую бабку в рамочное повествование своей «Сказки сказок». Когда дворцовый паж разбивает кувшинчик, в который эта старуха набирала масло, она обрушивает на него поток брани: «Ах ты, грязи комок, шалопай, засранец, горшок ночной, попрыгунчик на чембало, рубашка на заднице, петля висельника, мошонка мула… пропойца, рвань, сын той девки, что по списку в магистрате в месяц два карлина платит, разбойник!» […]
Что лучше поможет маргинализировать рассказчиц сказок, как не ассоциация с уродливыми горбатыми старухами, которая, в свою очередь, непременно породит ассоциацию со сварливыми бабками и ведьмами? Все это закономерным образом заставит окружающих сомневаться в том, что рассказчицы могут быть надежным источником мудрости и наставлений. Любопытно, что слово scold («сварливая бабка, мегера») этимологически связано с древнескандинавским skald («поэт»): возможно, вспыльчивые пожилые женщины были не так просты и делили арсенал сатирических орудий с поэтами…
Сказки уходят корнями в далекое прошлое, но в литературный канон они вошли только после публикации таких сборников, как смелые и раскованные «Приятные ночи» (1550–1553) Джованни Франческо Страпаролы или шутливый «Пентамерон» (1634–1646) Джамбаттисты Базиле. Что интересно, оба они содержат сказки, рассказанные женщинами: уважаемыми дамами в первом случае и морщинистыми старыми каргами во втором. Чосер и Боккаччо также черпали сюжеты из устной традиции: женские голоса у них смешивались и сочетались с мужскими, а многие темы и мотивы их текстов заимствованы напрямую из народных сказок.
Тревога из-за перехода волшебных и народных сказок в область печатной культуры не исчезала на протяжении всего XX в. и сохраняется в наши дни. Она прослеживается в заявлениях даже таких здравомыслящих писателей, как Карел Чапек. В своем эссе о волшебных сказках он утверждает, что «настоящая народная волшебная сказка — не та, которую записал собиратель фольклора, а та, которую бабушка рассказывает своим внукам», вновь повторяя миф, будто все источники сказок — престарелые женщины, а их аудитория — исключительно юные слушатели. «Настоящая сказка, — добавляет он, — это история, рассказанная в кругу слушателей». Сказкам нужно знать свое место — и лучше, чтобы они вообще не покидали пределы дома.
Подробнее о книге «Тысячеликая героиня» читайте в базе «Идеономики».

 Альпина нон-фикшн
Альпина нон-фикшн The Atlantic
The Atlantic Big Think
Big Think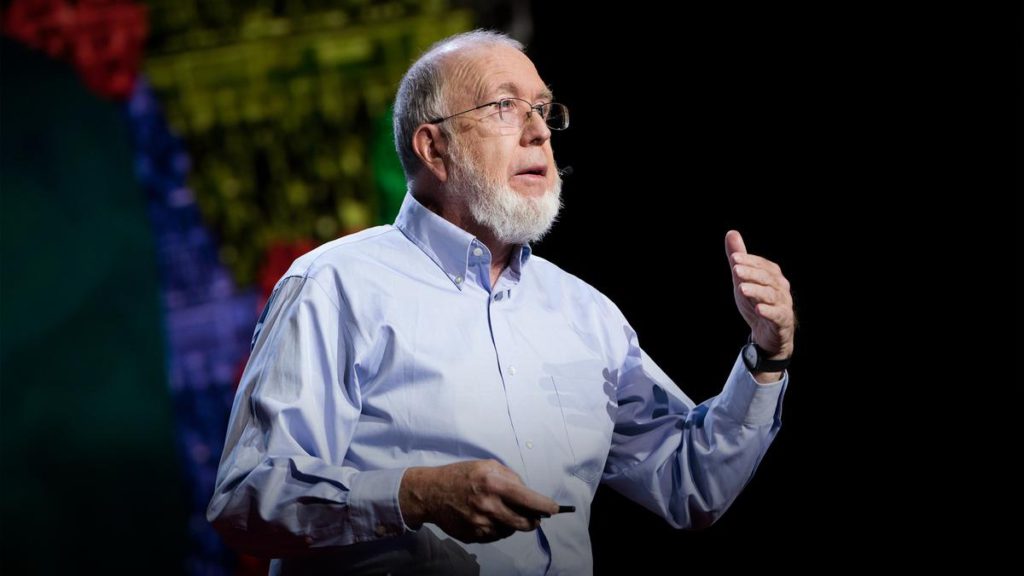
 Кевин Келли
Кевин Келли
 The Washington Post
The Washington Post
 The Economist
The Economist