Ниша человека: как климат влияет на расселение и поведение
Несмотря на способность изобретать и перемещаться, люди не расширили свою среду обитания
Будущее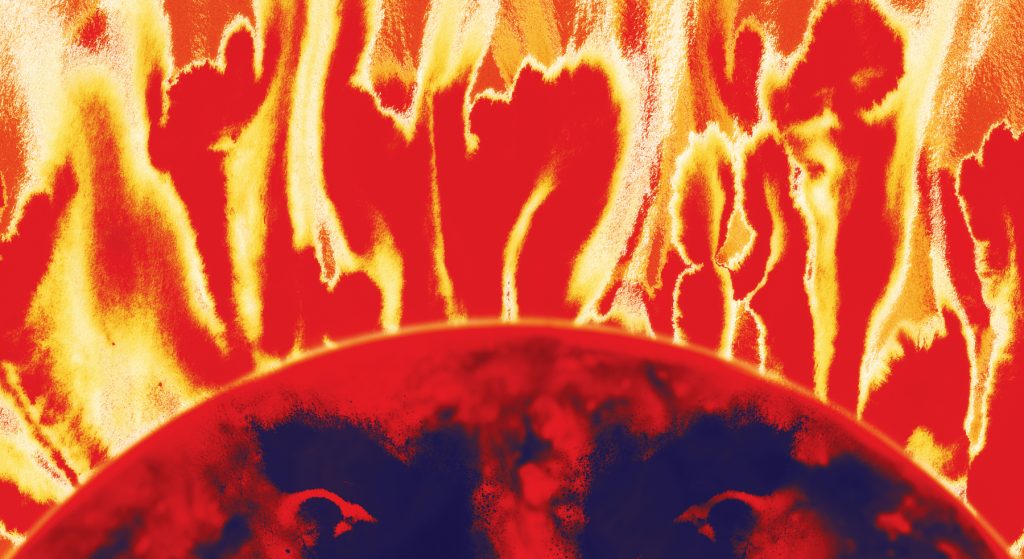
С изменением климата большинству видов на Земле придется переселяться туда, где они смогут благополучно обосноваться. Среди тех, кому потребуется переселение, — и редкие птицы, и улитки, и паразиты. В числе вынужденных переселенцев может оказаться и человек. Биолог Роб Данн, автор книги «С нами или без нас», предполагает, что люди могут и не воспользоваться возможностью переселяться в более благополучные районы. Но потепление, безусловно, внесет свои социальные — отнюдь не радужные — коррективы.
В каком-то смысле поражает, в сколь разных условиях, в том числе и климатических, умудрился поселиться и обрасти хозяйством человек в процессе своих странствий и уходов от напастей. Наша ниша кажется широкой. Еще до изобретения земледелия люди сумели обжиться в тундрах, болотах, пустынях, джунглях. Всевозможные инновации позволили современному человеку занять больше природных зон, чем это удавалось любым его предшественникам. Если сосредоточиться на отдельных людях и их сообществах, то на первый план попадают именно такие инновации. Среди них — изобретение огня и одежды, чтобы греться, строительство ирригационных систем чтобы перемещать воду, навык обогрева и охлаждения жилищ. В том же ряду и способность менять образ жизни с учетом конкретных внешних обстоятельств. Скотоводы по всему миру живут в особых условиях, сезонно кочуя вместе со своими животными. Народы Крайнего Севера выживают благодаря выдающимся знаниям о животных и растениях, а также сезонным миграциям, умению делать припасы и новаторским строительным навыкам. Современная наука нашла способ колонизировать космос — по крайней мере, на время. Не исключено, что прямо сейчас над нашими головами завтракают, спят или читают астронавты.
Но если взглянуть на все это пошире и поразмышлять о человечестве в целом — то есть не о том, где человек может жить, а о том, где живут крупные человеческие популяции, — то картина изменится.
Если смотреть в таком широком ракурсе, значимость наших инноваций едва ли не полностью нивелируется. На первый план выходят физиологические пределы человеческого организма. Недавно Чи Сюй из Нанкинского университета в Китае и его коллеги из Университетов Орхуса, Эксетера и Вагенингена провели замеры древней и современной ниш человеческого рода, исходя из плотности населения на Земле. Когда мы хотим выяснить, какие условия благоприятствуют выживанию человека, начать с плотности населения вполне разумно.
Cюй и его коллеги отобразили на графике относительные пропорции суши при разных климатах. Получилось широкое разнообразие комбинаций температуры и количества осадков, встречающихся в разных уголках Земли — от очень холодных и сухих до очень жарких и влажных. Кроме того, было установлено, что некоторые типы климата встречаются гораздо чаще других и, может быть, даже чаще, чем мы склонны себе представлять. На обширнейших территориях земной суши либо холодно и сухо, как в далекой тундре, либо жарко и сухо, как в Сахаре. Затем Сюй и его команда проанализировали подмножество условий, позволивших выжить плотным популяциям людей.
Ученые действовали так же, как поступают экологи (в том числе и некоторые соратники Сюя по этому проекту), когда рассматривают ниши животных, не имеющих отношения к человеку. Иначе говоря, они изучали людей так же, как изучали бы любых других живых существ — пчел, бобров или летучих мышей.
Сюй с коллегами начали с анализа ниши человека в относительно далеком прошлом, 6000 лет назад, опираясь на различные археологические данные, недавно сведенные в специальную электронную базу. В то время гораздо большая, чем сегодня, часть человеческой популяции состояла из охотников-собирателей. Сюй и его сподвижники обнаружили, что они довольно плотно заселяли территории с широким диапазоном разнообразных климатических условий, но при этом в некоторых условиях не жили вовсе. В очень холодных местах древних людей было совсем немного, равно как и в очень жарких и влажных областях, в то время как некоторые самые жаркие и сухие места на Земле, напротив, были довольно густо населены. Однако самой высокой плотности население достигало в относительно сухих условиях с умеренными температурами. «Идеальная» среднегодовая температура для древних человеческих популяций, по крайней мере если судить по плотности населения, составляла, по-видимому, около 13°C — это близко к среднегодовой температуре в американском Сан-Франциско или итальянской Флоренции. Идеальное количество осадков равнялось примерно 1000 мм в год: побольше, чем в Сан-Франциско, но примерно столько же, сколько во Флоренции. В стародавние времена, задолго до кондиционеров и центрального отопления, именно такой мягкий климат позволял крупным человеческим сообществам процветать.
Оценивая переход от далекого прошлого к нынешним дням, мы, естественно, задаемся вопросом: до какой степени нам, людям, удалось расширить свою нишу, используя технологические инновации? Ответ будет неожиданным: почти ни на сколько. За все это время мы отнюдь не распространились по разным климатическим областям Земли с большей равномерностью, но, наоборот, стали жить более концентрированно. Несмотря на все наши изобретения, включая паровую энергию, угольную энергию, ядерную энергию, кондиционирование и отопление, опреснительные установки и прочие бросающиеся в глаза атрибуты современности, ниша человека, скорее, даже уменьшилась.
Шесть тысяч лет назад народы, жившие в очень холодных и сухих местах Крайнего Севера, как правило, были охотниками-собирателями: они питались рыбой, птицами и млекопитающими. Культурные нововведения позволяли им существовать, несмотря на ряд препятствий: сезонность доступа к пище (для сохранения еды они научились ферментировать ее), сильные морозы (они стали укрываться от холода и, кроме того, привыкли выдерживать то, что не под силу другим) и огромные расстояния (эту проблему во многом решили ездовые собаки). Подобным образом и скотоводы 6000 лет назад нашли способы обжить жаркие засушливые регионы. В этом им помогли животные, которых они пасли (животные давали молоко, мясо и шкуры), сезонные перемещения, а также одежда и жилища, которые делали жару переносимой. И эти люди тоже просто приучились выдерживать то, что не могли выдерживать другие.
В настоящее время многие места с суровым климатом, где когда-то жил человек, почти обезлюдели или имеют крайне низкую плотность населения. Например, в самых жарких областях Сахары сегодня проживает меньше людей, чем 6000 лет назад, и они составляют очень незначительную часть населения Земли. Аналогично и некоторые области тундры сейчас по сравнению с теми далекими временами заселены менее густо. В результате своих исследований Сюй и его коллеги пришли к следующему выводу: все наши нынешние инновации не смогли в массовом порядке расширить нишу человеческого обитания за те пределы, которые были достигнуты людьми прошлого с их примитивными технологиями. И это создает немалую проблему, поскольку в грядущие годы климатические условия на Земле сделаются более суровыми: почти везде станет жарче, в некоторых регионах — гораздо суше, а в некоторых — более влажно. Но если нас ожидает экстремальное будущее, то полезно было бы понимать, чем же климатические крайности угрожают человеческим популяциям.
Как вообще они могут навредить людям, которые бóльшую часть времени проводят в помещениях с контролируемым температурным режимом? Ни экологи, ни даже антропологи пока не уделили должного внимания этому важному вопросу. Интересно, что наиболее подробно его анализировали экономисты. Несколько лет назад небольшая группа экономистов, в которую наряду со своими коллегами и наставниками вошел Соломон Сян, взялась изучать воздействие климата на два параметра, характерные для человеческих обществ. Учитывая сферу деятельности этого научного коллектива, выбор первой характеристики выглядел вполне естественным: им стал ВВП разных стран. А в качестве второго параметра исследователи выбрали уровень насилия.
Когда Сян учился в университете, влияние климата на экономику не считалось в его дисциплине слишком уж актуальным вопросом. Отчасти так сложилось по историческим причинам. В 1950–1960-е годы антропология восстала против идеи «экологического детерминизма». Вскоре ее примеру последовали и другие гуманитарные дисциплины, в том числе экономика. Экологический детерминизм предполагает, что человеческие общества, подобно, скажем, муравьиным, самым прямым образом испытывают на себе влияние среды. Отчасти, оппонируя этой доктрине, ученые-гуманитарии возражали, и вполне обоснованно, тем версиям экологического детерминизма, которые укрепляли расизм и колониализм. Сян тем не менее считал, что люди все-таки откликаются на импульсы, поступающие из биологического и физического мира. Как рассказывает этот специалист сегодня, в те дни он был слишком молод и не знал всей истории. Его просто занимали климат, экономика и люди, и поэтому, став магистрантом Колумбийского университета, он взялся за их изучение.
Работая над диссертацией, Сян написал несколько статей о влиянии циклонов на экономику. Перейдя в Принстонский университет в качестве постдокторанта, он приступил к более масштабным исследованиям, посвященным влиянию климатических сдвигов на общества; эти труды вылились в пространную статью, опубликованную в журнале Science, когда Сян еще проходил постдокторантуру. Его соавторами выступили Маршалл Берк и Эдвард Мигель, оба из Калифорнийского университета в Беркли. По словам авторов, их совместное исследование стало «первым всесторонним обобщением» всех ранее собранных сведений, касающихся взаимодействия климата и социума. Его основой послужила статистика: она предоставила то своеобразное увеличительное стекло, сквозь которое научный коллектив рассматривал человечество. В предыдущих исследованиях основное внимание уделялось воздействию климатических изменений на отдельные сообщества, но целостный и комплексный анализ там отсутствовал. Сян, Берк и Мигель попытались объединить предшествующие разработки ради обобщающей картины.
Подход, на который опирались Сян и его коллеги, дополнял наработки действовавшей независимо от них группы, которой руководил Чи Сюй. Если группа Чи Сюя сосредоточилась на соотношении климата и плотности населения по всей Земле в конкретные периоды, то группа Сяна анализировала взаимосвязь климата и обществ в одних и тех же избранных точках мирового пространства в разные моменты времени.
Сян, Берк и Мигель обнаружили, что человеческие сообщества, столкнувшиеся со стремительными изменениями климата, в особенности затрагивающими условия, при которых вероятно образование крупных человеческих популяций, почти всегда страдают. Неудобства делаются особенно заметными, когда становящийся все более суровым климат перестает вписываться в рамки человеческой ниши. При этом одним из следствий изменения климата во все времена был рост уровня насилия.
Если говорить о человеческой нише, то к росту насилия приводят как изменения климата в целом, так и повышение (реже — понижение) температуры в частности. Люди более склонны применять силу по отношению друг к другу, когда климатический фон становится непривычным. Так, по мере потепления климата растет число самоубийств и попыток самоубийства, а также учащается применение силы в отношении других. В Соединенных Штатах повышение среднегодовых температур сопровождается ростом числа изнасилований и актов домашнего насилия. Одновременно более систематическим делается и насилие индивидов в отношении тех или иных групп: например, бейсболисты-питчеры чаще нападают на игроков команд-соперников, а полицейские более агрессивно обращаются с гражданами. Сказанное касается и распространения насилия в межгрупповых отношениях. В исследованиях, на которые опирались Сян и его коллеги, было показано, что с ростом температур учащались столкновения между общинами в Индии, нарастало политическое и межгрупповое насилие в Восточной Африке, а также межгрупповое насилие в Бразилии. Список можно продолжать. Еще важнее то, что по мере повышения температуры на нашей планете набирало обороты и насилие, проявляющееся в войнах и обрушении общественных систем: здесь уместно сослаться на древние империи майя и кхмеров, на имперский Китай, а также на ряд более современных городов, регионов и государств.
Рост насилия, который зарегистрировали Сян, Берк и Мигель, сопутствовал колебаниям температуры и влажности, выходящим за пределы значений, характерных для ниши обитания человека. По всей видимости, чем значительнее новые условия отклоняются от идеальных параметров ниши, тем больше люди страдают и тем агрессивнее они становятся. Представьте себе карту мира, на которой
обозначены окраинные области человеческой ниши, исходя из измерений Чи Сюя, а затем вообразите, как ее изменят метаморфозы климата. Исследования Сяна, Берка и Мигеля позволяют предположить, что насилие, вероятнее всего, будет активно проявляться в тех регионах, где климатические условия уже едва вписываются в границы человеческой ниши — и продолжают ухудшаться. Под впечатлением от этого открытия я связался с Сюем и попросил его нарисовать соответствующую карту, что он и сделал. На ней четко видно, что горячие точки глобального насилия (по крайней мере, втягивающего значительные группы людей) непропорционально часто возникают при наличии климатических характеристик двух типов. Это происходит, во-первых, в предельно жарких областях, где понемногу становится еще жарче, а во-вторых, в областях, где жарко и относительно сухо — то есть там, где выпадающих осадков хватает для земледелия лишь в хорошие годы. Среди регионов первой группы — некоторые области Пакистана; среди регионов второй группы — северная Мьянма, приграничье Индии и Пакистана, отдельные области Мозамбика, Сомали, Эфиопии, Судана, Нигера, Нигерии, Мали и Буркина-Фасо.
Подробнее о книге «С нами или без нас» читайте в базе «Идеономики».

 FiveThirtyEight
FiveThirtyEight BBC
BBC Vox
Vox The Guardian
The Guardian
 The Economist
The Economist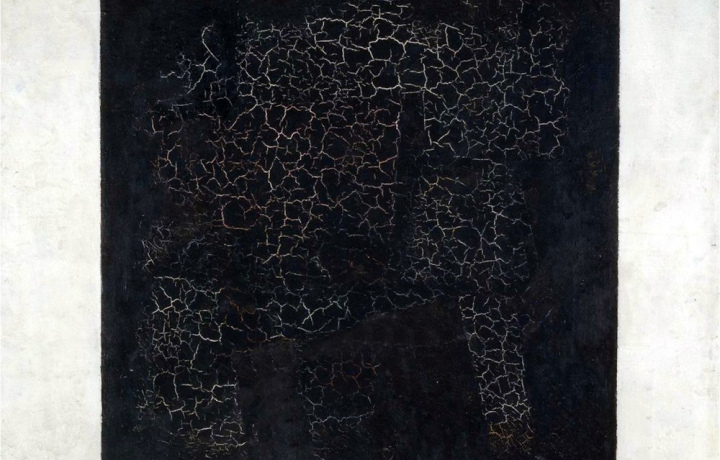
 Aeon
Aeon
 Альпина Паблишер
Альпина Паблишер