Окно в разум нации: как связаны язык и мировоззрение
Культура и окружающая действительность оказывают значимое влияние на формирование языков. Но, может быть, все наоборот?
История
Каждый, кто изучает иностранный язык, однажды делает захватывающее открытие: между одинаковыми словами двух языков порой нет никакого смыслового соответствия. Дело в том, что даже самые банальные выражения могут происходить из совокупности установок и идей, уникальных для каждого языка. Поэтому, говоря на неродном языке, мы словно переходим из одного мира в другой. Но так ли это на самом деле? Действительно ли есть связь между языком и мировоззрением? Лингвист Джеймс МакЭлвенни рассказывает о гипотезах, которые были сделаны в разное время.
В лингвистике существует идея, которая называется «лингвистической относительностью», или гипотезой Сепира-Уорфа. Согласно ей, структура языка определяет мышление и способ познания реальности. Современные исследования, посвященные этому явлению, ставят целью сформулировать эти закономерности и подтвердить их практическим образом. У теории долгая история, и некоторые ее страницы вызывают сегодня неоднозначное отношение. И вот почему.
Если мы признаем, что лингвистическая относительность существует, то нам придется пересмотреть понимание природы человеческого языка. В западной классической философии, прежде всего в работах Аристотеля, существует давнее предположение, что слова — это просто ярлычки для обозначения понятий и вещей. Мы обозначаем вещи словами просто для удобства, чтобы поделиться ими с другими. Но лингвистическая относительность придает языку активную силу, формирующую наши мысли. Она подтверждает, что существуют фундаментальные различия между языками и мировоззрениями, которые эти языки формируют. И это ставит сложные вопросы о структуре народов, из которых состоит человечество. Может ли быть так, что между группами людей, говорящих на разных языках, существуют непреодолимые пропасти в мышлении и восприятии?
Все началось в эпоху Просвещения, в XVII-XVIII веках, когда в дискуссиях о разуме стало мелькать выражение «гений языка» (впервые появившееся во французском языке как le génie de la langue). Этот термин использовался в самых разных смыслах, причем часто было неясно, что именно имеется в виду. Наиболее близким по смыслу было «je ne sais quoi», еще одно выражение, которое употребляли для обозначения невыразимой сути искусства, нечто расплывчатое и неопределенное. «Гений языка» чаще всего проявлялся при обсуждении идиом, чтобы объяснить, как образ выражения сочетается с его смыслом. Эта метафора воспринималась как воплощение менталитета носителей языка, то есть как тот самый гений (или дух).
Наиболее авторитетно о сути лингвистической относительности рассказал немецкий философ и поэт Иоганн Готфрид фон Гердер в «Трактате о происхождении языка» в 1772 году. Он писал о том, что основой языка являются наши мысли: придумывая слова, мы размышляем о свойствах вещей, которые они называют, и выбираем наиболее значимые из них. Народы фокусировались на разных свойствах, в результате чего каждый язык с его характерными формами отражает несколько иной взгляд на мир. С течением времени эти различия становились все более отчетливыми, поэтому, чтобы понять уникальную картину языка, мы должны проследить формы слов до их этимологических истоков.
В начале XIX века эту идею развил Вильгельм фон Гумбольдт, самым искусным образом он вплел ее в более масштабную концепцию языка и литературы. Гумбольдт считал, что связь языка и мировоззрения гораздо больше, чем предполагал его предшественник: мысли формируют слова, а слова — мысли. Его научный поиск не ограничился словами. По его мнению, более важными были грамматические структуры, представленные в языках мира. Гумбольдт называл глубинную структуру «внутренней формой языка», противопоставляя ее «внешней форме» — особенностям слов, грамматики и звуковой системы. При этом он отмечал, что наиболее полно понять «гений» языка можно, лишь оценив его литературу и выступления самых красноречивых ораторов.
Этой идеей затем воспользовались другие лингвисты, которые в XIX веке сосредоточились на разработке типологии языков согласно их грамматическим особенностям. Наиболее известной классификацией, взявшей за основу внутреннюю форму Гумбольдта, стала версия, разработанная Хейманом Штейнталем. Она, в свою очередь, легла в основу его Völkerpsychologie, «психологии народов» или «этнопсихологии». Главной целью Штейнталя было описание общего менталитета каждого народа. Внутренняя форма языка, по его мнению, была идеальным окном в национальный разум.
Но затем идея о национальном сознании и характере языков попросту потеряла популярность. Вместо этого ведущим направлением в лингвистике стала сравнительно-историческая грамматика. Это подход, который тщательно сравнивает слова и грамматические формы в разных языках, чтобы проследить их исторические изменения и выявить предполагаемые генеалогические связи.
Именно благодаря этому направлению мы знаем, что французский, итальянский и испанский языки произошли от латыни; что хинди-урду, бенгальский и пенджаби ведут свою родословную от санскрита, а все вместе они входят в обширную индоевропейскую языковую семью. Единый предок — протоиндоевропейский язык, был утерян со временем, но элементы его словарного запаса, грамматики и звуковой системы можно реконструировать по чертам его потомков. Важно понимать, что в рамках сравнительно-исторической грамматики ученые опираются на сравнение «внешней формы», описанной Гумбольдтом: то есть на грамматику, лексику и, в первую очередь, звуковые формы.
Большинство ученых этого подхода считали, что для того, чтобы лингвистика считалась серьезной наукой, она должна ограничиться надежными, объективно наблюдаемыми данными. Поэтому идея связи менталитета и языка стала чем-то из разряда ненаучных размышлений: «внутреннюю форму» или «гений языка» сложно выделить иначе, кроме как интуитивно.
Зато идеи лингвистической относительности подхватили ученые-антропологи. Франц Боас (1858-1942), «отец» американской антропологии, задался целью составить полный справочник языков коренных народов Северной Америки, первый том этого собрания вышел в 1911 году. По словам Боаса, в составлении работы он использовал внутреннюю форму языка для грамматических конструкций. «Другими словами, — уточнил Боас, — грамматика рассматривалась так, как будто умный индеец собирался собирался показать форму мыслей путем анализа собственной формы речи».
Стоит учитывать, что в девятнадцатом веке очень популярной была идея о том, что народы достигли различных стадий эволюции в культуре, и это объясняется различиями в их когнитивных способностях. На вершине иерархии находился европейский человек XIX века, раскрывший умственные способности во всех направлениях, а внизу — коренные народы мира, которые, как правило, считались застрявшими в вечном детстве человечества или выродившимися из предыдущего состояния «цивилизации». Поэтому многие научные изыскания в области относительной лингвистики пристрастно оценивали языки этих «диких» народов в пользу языков «цивилизованного» мира. Например, Хейман Штейнталь утверждал, что языки американских индейцев фактически не имеют сложной грамматической основы.
Боас выступил против такой предвзятости, отказываясь рассматривать некоторые особенности языка индейцев как показатель умственного недоразвития. По его словам, то, что в речи индейцев нет абстрактных понятий, значит лишь то, что у них никогда не было необходимости в абстрактных терминах или больших числах, а значит, и не было случая создать такие формы. Если бы такая необходимость возникла, их языки быстро бы адаптировались.
Взгляды Боаса во многом совпадали с идеями этнографа Адольфа Бастиана, который отстаивал принцип «психического единства человечества»: идею о том, что люди, независимо от происхождения и культуры, обладают одинаковыми умственными способностями.
Именно из работ Боаса и выросла современная гипотеза Сепира — Уорфа. Как и Боас, Эдвард Сепир настаивал на том, что не существует расовых различий в мышлении, а также прямых связей между культурой и языком. При этом язык и мировоззрение тесно связаны. «Язык и наши мыслительные процессы неразрывно переплетены, — писал Сепир в 1921 году, — в каком-то смысле это одно и то же». Сепир и его ученик, Бенжамин Ли Уорф, искали грамматические процессы и концепции, зафиксированные в языках мира, чтобы определить тип или структурный «гений» каждого языка. По мнению Сепира, эти вещи действовали независимо от необходимости выражать определенные понятия или придавать внешнюю форму определенным группам понятий.
В XX веке многие лингвисты стали рассматривать структуру языка как объект, который можно исследовать независимо от широких вопросов познания или физического воплощения и восприятия речи. Женевский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857-1913) ввел различие между la langue (языком) и la parole (речью), которое стало основополагающим для многих последующих лингвистических исследований. Согласно его концепции, язык — это абстрактная система каждого языка, а речь — это частный случай воплощения этой системы для фактических высказываний. По мнению де Соссюра, задача лингвистики — это описание свойств каждого языка, а то, как он воплощается в сознании и устах говорящих, — уже вопросы психологии и физиологии. Но как же тогда появилась эта гипотеза о лингвистической относительности?
Хотя ни Сепир, ни Уорф никогда не формулировали точных положений о влиянии языка на мышление, они предполагали такое влияние. «Дело в том, что «реальный мир» в значительной степени бессознательно строится на основе языковых привычек группы, — писал Сепир. — Миры, в которых живут разные общества, — это разные миры, а не просто один и тот же мир с разными ярлыками».
Эта идея стала очень популярной в научной среде в связи с тем, что мир в то время в очередной раз переживал нелегкие времена: люди видели ужасы Первой мировой войны и политической поляризации, которая привела к появлению тоталитарных правительств. Многие философы того времени искали причины катастроф, в том числе и в том, что язык стал оружием пропаганды, распространяемой с помощью таких новых технологий, как радио и кино. Отголоски этого страха перед языком, как перед инструментом подавления, проявились в «новоязе» Оруэлла.
Сепир и Уорф раскрывали разнообразие реальностей, создаваемых языками, и лингвистика могла помочь выявить, как язык вводит нас в заблуждение. В 1924 году Сапир писал: «Возможно, лучший способ проникнуть в суть наших мыслительных процессов и устранить из них все случайности или неуместности, связанные с их языковым облачением, — это погрузиться в изучение экзотических способов выражения».
К середине XX века академическая лингвистика в основном вернулась к грамматическому сравнительному подходу. Оценивая гипотезу Сепира-Уорфа, американский лингвист Джозеф Гринбер писал: «Мы не находим никаких глубинных семантических закономерностей, которые требовались бы для того, чтобы система языка отражала некое всеобъемлющее мировоззрение метафизического характера». Схожего мнения придерживался и Ноам Хомский, который писал, что различия между отдельными языками — это всего лишь фантомы, поверхностные вариации одной и той же базовой системы, созданной врожденной способностью к языкам, общей для всех людей. По мнению Хомского, есть ряд универсальных принципов, управляющих всеми языками, и задача лингвиста — найти их.
Но лингвистическая относительность как феномен не исчезла. Лингвисты и психологи, занимающиеся исследованиями в этой области, получают интересные результаты. Вот лишь один пример: в результате одного исследования стало ясно, что некоторые языки могут позволить их носителям разблокировать чувства, которыми владеют все люди, но большинство их не использует.
Во многих языках пространственное положение обычно описывается применительно к говорящему. Если на мою ногу садится муха, я могу сказать: «Муха села на правую сторону моей ноги». Право — это эгоцентрический пространственный термин, который ориентируется на объекты в мире в соответствии с воображаемой осью лево-право, проецируемой из моего тела.
Однако это не единственный способ языковой ориентации в пространстве. В языке гуринджи, на котором говорят в северной Австралии, как и во многих других языках мира, местоположение описывается с помощью направлений: север, юг, восток и запад. Автор статьи приводит пример, как предложение с мухой будет звучать на гуринджи: «Karlarnimpalnginyi nyawama wurturrjima, walngin ngayinyja wurturrjila». Дословно: «Это внешняя верхняя западная часть (моей) ноги. Муха приземлилась здесь на мою ногу». Поэтому, если человек повернется в другую сторону, то для языков, где главной является ориентация лево-право, ничего не измениться: муха по-прежнему находится на правой стороне ноги. А вот в языке гуринджи муха теперь находится на восточной части ноги.
Стороны света есть во многих языках, но обычно они используются только в географическом масштабе. В отличие от этого, в гуринджи даже части тела говорящего располагаются в системе координат, охватывающей весь мир. Можем ли мы без компаса легко определить части света? А у носителей языка гуринджи с этим проблем не возникает. Сначала ученые предполагали, что они опираются на ряд признаков окружающей среды, главным из которых является движение солнца по небу. Однако впоследствии стало ясно, что они обладают чувством, которое незнакомо большинству из нас: они реагируют на магнитное поле Земли. Недавние эксперименты австралийского лингвиста Фелисити Микинс и ее коллег показали, что некоторые носители языка гуринджи могут достоверно сообщать о сдвигах в окружающих магнитных полях.
По-видимому, эту особенность восприятия открыл язык гуринджи. Но означает ли это, что народ живет в другом мире, о котором писал Сепир? Это все еще лишь гипотеза, которую сложно подтвердить и опровергнуть. У лингвистов в этом вопросе нет предмета изучения: это просто ощущение, которое преследует ученых начиная с эпохи Просвещения, о том, что язык формирует наш мир. Сложно представить себе экспериментальное исследование, которое сможет доказать это, на сегодняшний день это все еще вопрос на грани метафизики.
Безусловно, гипотеза лингвистической относительности остается интересной загадкой для современной науки. Работы прошлых эпох дают подсказки, однако несут на себе отпечаток предубеждений тех эпох и специфического интеллектуального контекста, в котором они были написаны. В то же время они несомненно, отражают важные факты из человеческого опыта и могут служить источником информации для современных исследователей.
 Psyche
Psyche Альпина нон-фикшн
Альпина нон-фикшн BBC
BBC
 Big Think
Big Think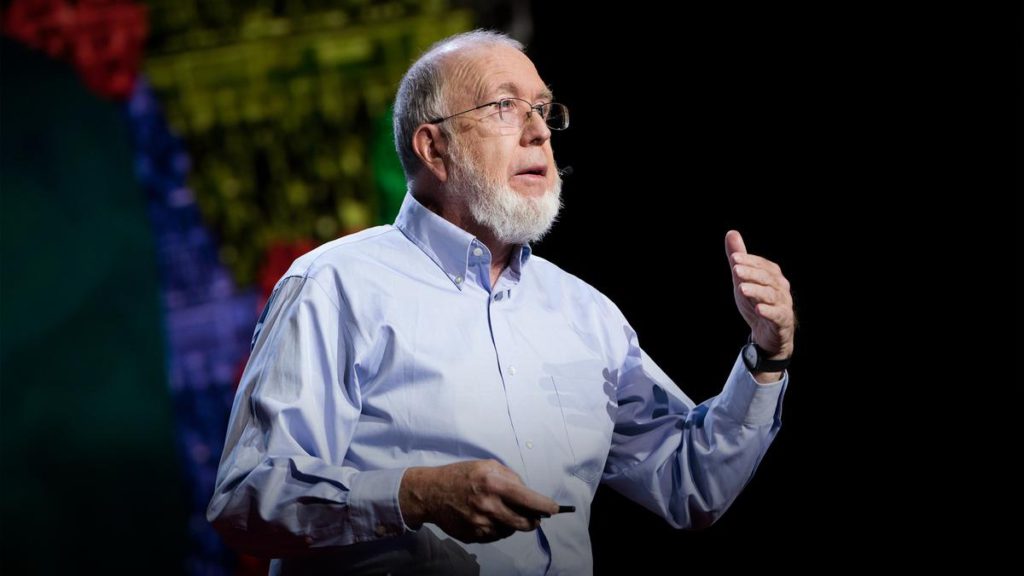
 Кевин Келли
Кевин Келли
 The Washington Post
The Washington Post